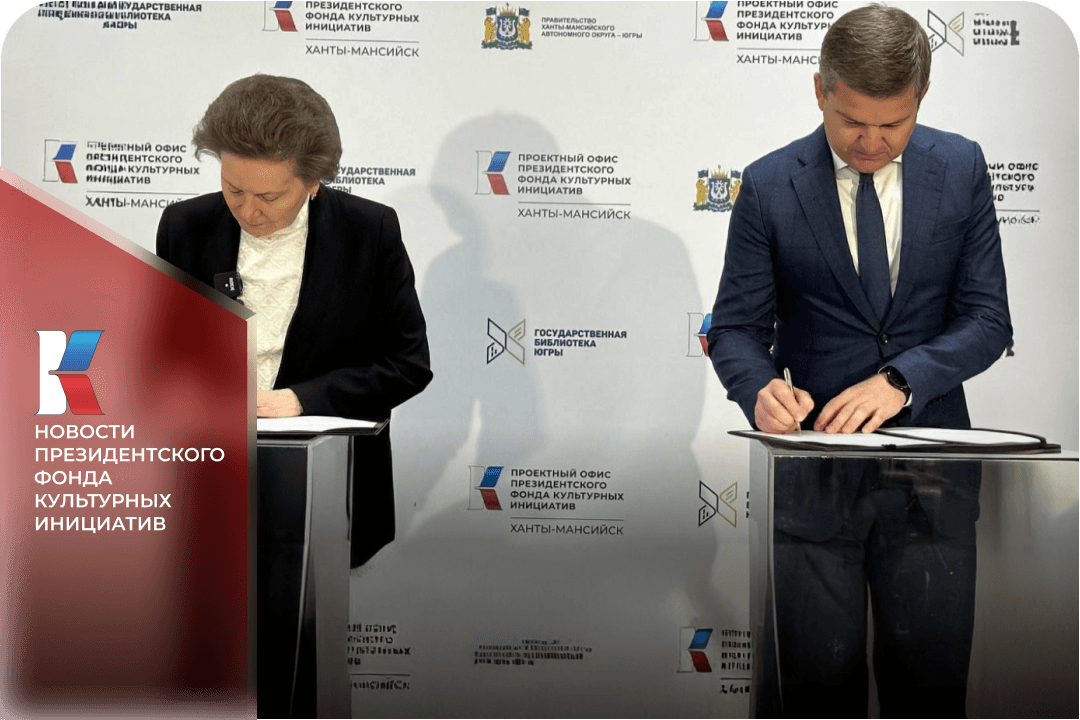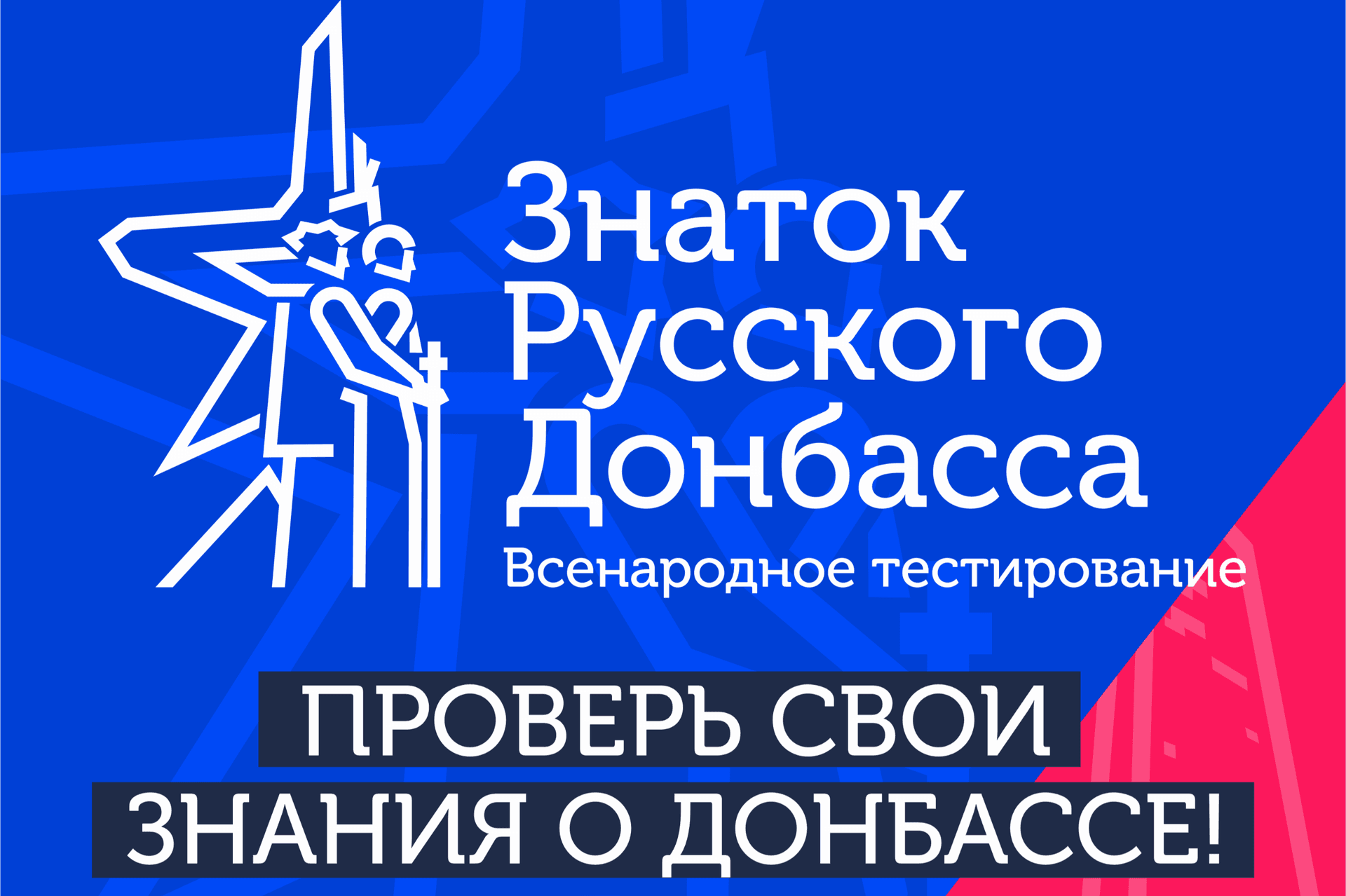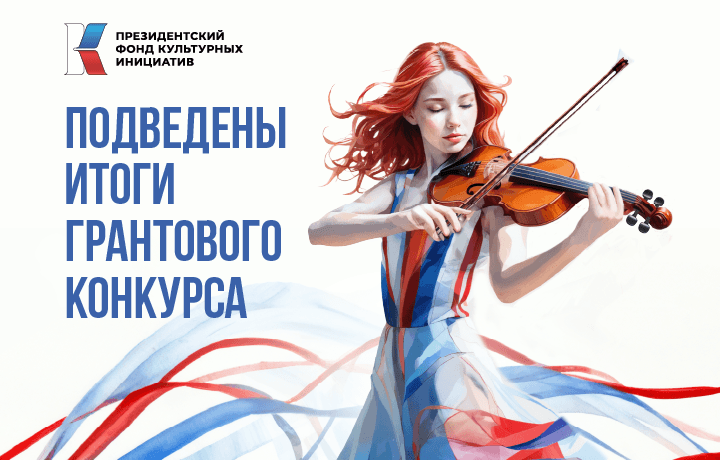В мире, где реальность порой становится жёстче любых легенд, фэнтези-драма «Сердце леса» возвращает зрителя к истокам — к древним мифам, в которых скрыт разговор о самом главном: о выборе, человечности и цене сострадания. Руководитель проекта рассказал, как родилась идея фильма, как команда превратила лес Челябинской области в мистическое пространство борьбы света и тьмы — и почему Волколак в этой истории символизирует не чудовище, а человека, сумевшего сохранить сердце.

О замысле и идее
— С чего началась история фильма «Сердце леса»? Что стало отправной точкой для создания именно фэнтези-драмы с опорой на славянскую мифологию?
— Всё началось с важного вопроса: как говорить о милосердии и ценности жизни так, чтобы это действительно зацепило молодое поколение? Ответ оказался ближе, чем казалось — в нашем родном фольклоре. В образах, за которыми стоит смысл, а не просто страшилки про «монстров». Так и родилась идея — фэнтези-драмы, основанной на славянских мифах.
— Почему вы выбрали Волколака как ключевого персонажа? Какая в нём символика для современной аудитории?
— Волколак — не про «страшилку». Это про нас: про выбор и внутренний бой. Для меня это метафора: в каждом из нас живёт зверь, и есть два пути — выпустить его или научиться держать его в узде ради другого человека. Для современной аудитории это прямой и честный разговор о человечности и ответственности.
— В фильме поднимаются важные темы: ценность жизни, гуманизм, преемственность поколений. Как вы определяли, какие ценности должны прозвучать в сюжете?
— Мы начали с главного: что мы хотим донести до зрителя? Никаких лозунгов - ценности рождались из действий героев. Рискнуть собой, чтобы спасти другого — это про ценность жизни и милосердие. Взять ответственность вместо мести — про гуманизм. Услышать опыт старших — про преемственность как диалог. Славянский миф — не декорация, а язык, на котором это звучит без морализаторства.
Зверь внутри — испытание: он проверяет нашу человечность и способность остановиться ради другого. Так смысл держится на действиях, а не на пояснениях. Мы проверяли это на читках и черновых показах. Если зрители считывали ценность без пояснений — сцена работает; если нет, меняли мизансцену, мотивацию или монтаж. В итоге смыслы не декларируются в лоб: они проявляются через последствия выбора и касаются каждого.

О работе над фильмом
— Производство полностью проходило в Челябинской области. Как выстроилась работа местной студии и актёров?
— Челябинская область как кинорегион ещё формируется. Снимать тут непросто, но возможно: мы сделали фильм целиком в регионе и в срок. Наша студия «NEW ART MEDIA» взяла на себя координацию и разложила производство на шаги: сценарий, кастинг и локации, пластический грим и реквизит, решения по костюмам, читки сценария и репетиции, подготовка техники и утверждение календарно-постановочного плана. На площадке работали спокойно и по плану — дисциплина без напряжения.
Актёры — это соавторы фильма, а кастинг – это важный этап производства. Мы строили процесс так, чтобы их правда звучала в каждом кадре, без шума и суеты. Дальше — компактный метод: быстрый прогон сцены перед дублем и сразу в кадр. От дубля к дублю решали микрозадачи и фиксировали решения — без «пережёвывания» сцен. Пластику «зверя внутри» переводили в телесные маркеры, чтобы борьба со зверем читалась без слов.
— Были ли трудности в поиске подходящей локации и создании атмосферы «леса»?
— Лес – это отдельная «роль». Мы объездили много мест: искали фактуру — мох, старые, но красивые деревья в контрасте с молодняком. Атмосферу собирали простыми средствами: практический «киношный» дым – как туман, рассеянный мягкий естественный свет, работа реквизита и немного точечных VFX (графику) там, где без них никак. Подходящий лес мы нашли в городе Кыштым Челябинской области.
С домом Татьяны было сложнее. Часто попадались варианты снаружи — нужная фактура, но рядом новый железный забор; или внутри — свежий ремонт, пластиковые окна и жёлтые газовые трубы повсюду. Подходящий дом нашли в селе Сугояк. Внутри изменили очень мало, дом уже подходил нам по сценарию. Газовые трубы, разумеется, не трогали — просто уходили от них ракурсами или снимали сцены в другом ракурсе и крупности. Все же в некоторых кадрах они есть, но они не мешают восприятию сюжета. В итоге нашли сочетание локаций и решений, которое на экране смотрится цельно, с нужной атмосферой и без «визуального шума».
— Какие моменты в съёмочном процессе стали для вас самыми сложными и как вы их преодолели?
— Не могу выделить что-то особенно сложное. Одного «самого сложного» эпизода не было — у каждой сцены свои задачи. Мы сделали ставку на подготовку: раскадровка, прогоны, точный тайминг и план Б на погоду. На проекте работало простое правило: «тяжело в учении — легко в бою».
Во время съёмок всегда сложности с животными и детьми. Наш юный актёр Дима Молчанов пришёл на съёмочную площадку готовым: репетиции, чёткие задачи на дубль — и он органично вошёл в роль. С «волчицей» Шани заранее провели репетиции и тесты с кинологом, сократили количество людей на площадке и строго соблюдали безопасность. В результате такие сцены прошли спокойно и уложились в план.
— Как вы подходили к визуальной стороне фильма: костюмы, спецэффекты, работа с образом Волколака?
— Мы держались естественных тонов и живой фактуры: дерево, кожа, плотные ткани — без глянца и лишнего блеска. Костюмы собрали с аккуратными фольклорными мотивами: чтобы читались, но не перетягивали внимание. Многие вещи состарили вручную — потертости, патина на металле.
Пластический грим для Волколака дал основу «звериным» деталям: подчеркнули скулы, бровные дуги и фактуру кожи. VFX (графику) использовали точечно, как тонкую дорисовку: «тапетум» в глазах (ночной блеск глаз), немного усилили клыки, дали свечение клейму, добавили пару выстрелов с дымом и искрами. Принцип простой: сначала практический эффект в кадре, а графика — для доведения, а не замены. На цветокоррекции лес — приглушённые зелёно-серые тона, дом — тёплые янтари. Добавили лёгкую «плёночную» зернистость, чтобы фактура оставалась живой. Всё — простыми средствами, без демонстративности и перегибов.

О команде и процессе
— Каким образом вы формировали команду для проекта? Участники команды уже имели опыт совместной работы? Насколько это помогло при реализации «Сердца леса»?
— Основной состав — проверенные люди, с кем мы уже делали не один проект: продюсерский, сценарный, художественный и операторский департаменты, плюс звук, грим, VFX-специалист. Под узкие задачи точечно подключали специалистов: кинолога для работы с «волчицей» и пиротехника (безопасность и тесты). Параллельно взяли стажёров — быстро подключились, набрали практику, часть осталась в команде.
Ядро команды понимает друг друга с полуслова — это экономит время, держит тайминг и помогает спокойно преодолевать сложности во время съёмки. Поэтому «Сердце леса» мы сделали в срок и без лишней суеты.

О поддержке и результатах
— «Сердце леса» уже получило награды на российских и международных фестивалях. Какая из побед стала для вас особенно значимой и почему?
— Я всегда радуюсь, когда отмечают актёров: через них зритель верит истории. Для меня особенно важна победа Артёма Острейко (Арсений) — «Лучший актёр» на международном фестивале в Риме (Италия). Так же на международном фестивале в Иране Анастасия Сорокина (Татьяна) совместно с Артёмом получили награду – лучшие актёры. Очень рад!!!
— Как грантовая поддержка ПФКИ повлияла на масштаб и качество реализации проекта?
— Поддержка ПФКИ — это разница между «как-нибудь» и «как задумано»! Грант позволил оплатить необходимых специалистов и аренду техники, сделать пластический грим и постпродакшн без компромиссов. Мы провели репетиции и тесты (включая работу с животным), получили ресурс для подготовки локаций и логистики внутренних процессов проекта. В итоге фильм вышел на экраны, прошёл показы и попал на фестивали, а команда — включая стажёров — выросла в квалификации.
— Если описывать миссию «Сердца леса» одним предложением, какой бы она была?
«Напомнить, что человечность сильнее любого зверя внутри нас».
— Есть ли уже планы и идеи о реализации других проектов?
— Да. В работе — короткометражный фильм «Узы» — современная драма с мифом об Упыре как метафорой эмоционального насилия в семье. История адресована подросткам и их родителям; говорим об ответственности, милосердии и понимании. Сейчас мы находимся на стадии создания концепции новой истории. Мы очень надеемся на поддержку Президентского фонда культурных инициатив, ведь наша задача не останавливаться и сделать целый альманах короткометражных фильмов про человеческие ценности. Каждый фильм — отдельная ценность и конкретный выбор героя.
«Коротко: поддержка ПФКИ дала нам снять фильм в регионе «как задумано» — с нужными специалистами, безопасностью и полноценным постпродакшеном — и довести проект до открытых показов и фестивалей»